
Первая жена Горького Екатерина Павловна Пешкова,

В свободное от революционной деятельности время Зиновий помогал семье Горького, его жене Екатерине Павловне. На снимке он с детьми Горького Максимом и Катей. 1901 г
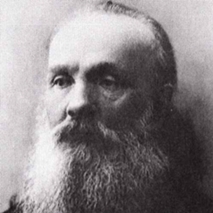 Владимирский крестил Зиновия в Троицкой церкви 30 сентября 1902г
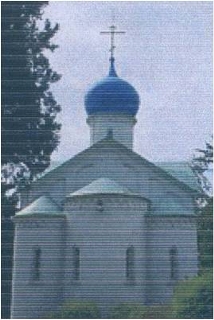
Троицкая церковь, где, отец Федор Владимирский крестил Зиновия 30 сентября 1902г |
2 - АРЗАМАС Несмотря на умелую конспирацию, несмотря на помощь молодых революционеров, Алексей Максимович сел в тюрьму по подозрению, что он автор революционных прокламаций, баламутящих население. Однако авторство доказать не удалось, и его через месяц выпустили. Но все равно он находился под полицейским надзором. В конце концов, власти приговорили его к ссылке. Надо сказать, что кровожадное царское правительство своеобразно расправлялось с революционерами, которые мечтали свергнуть самодержавие. Например, узнав, что у Горького слабые легкие, власти разрешили ему прежде, чем он поедет в ссылку, отбыть зиму в Крыму, чтобы он поправил свое здоровье. А ссылку начал отбывать с весны 1902 года Да и ссылка была не очень далекая, не Сибирь или Сахалин. Нет, это был город Арзамас в 110 километрах от Нижнего Новгорода – родины и ме-ста проживания Алексея Максимовича. Ленин негодовал и писал «Всемирно известного писателя лишили свободы без суда и следствия. Его ссылают потому, что единственным оружием писателя М.Горького было свободное слово». Все знают, все знакомо, мы проходили все это в советское время, только куда в более жестком варианте. "То, что мы были люди страсти и думали о своей биографии, и привело нас в круг бунтарей. Но я увлеченно играл в революцию, а он был и впрямь ее трубным гласом, и этот мятежный грохочущий глас так славно по нижегородски окал! Моя набиравшая силу судьба переплелась с его судьбою — мы дважды оказались в тюрьме. Но я воспринимал и тюрьму как продолжение игры. Поэт Скиталец (Скитальцем он стал, естественно, в подражание Горькому) тогда еще принимал в ней участие и написал о том оперетту. Страшная, видно, была тюрьма. Впоследствии на своей фотографии наш Буре-вестник мне написал: “На добрую память о днях совместной веселой жизни!” И — не без ухарства — добавил: “За каменной стеной”. Я полюбил его семью. И строгую Екатерину Павловну — сдержанность ей ничуть не мешала быть притя-гательным существом, причем притягательным по-женски! И маленького Максима, и новорожденную Катюшу. Я прислонился, прижался, присох, сам не пойму, как это вышло. Когда их выслали в Арзамас, я быстро последовал за ними". Отдохнув и подлечившись в Крыму, Горький прибыл в ссылку Прибыл домовито, со всеми чадами и домочадцами: с женой, Екатериной Павловной, сыном Максимом, дочкой Катей, сестрами Кольберт, которые помогали ему. Сюда же он вызвал из Нижнего Новгорода и Зиновия, чтобы тот разбирался с книгами, помогал ему в работе в библиотеке. Писатель снял просторный дом купца Подсосова на Сальниковской улице, в котором устроился удобно и надолго. Горький был человек очень гостеприимный. В Арзамас к нему приезжало множество людей из Москвы, из Петербурга, из Нижнего, из разных городов. Однако местные жители, напуганные полицией, не ходили к нему. Арзамасцы понимали, что в их город прибыло что-то страшное и опасное. У входа в дом, на улице, там, где сейчас мемориальная доска, находился полицейский пост. Здесь круглосуточно дежурили жандармы, сменяя друг друга. Совсем так же 70 лет спустя, на той же нижегородской земле, в городе Горьком, милиционеры дежурили у дверей квартиры ссыльного Андрея Дмитриевича Сахарова. Традиции неистребимы, вечны. Дай Бог, чтобы эти традиции когда-нибудь в этой стране закончились. Поскольку время ссылки как раз «упало» на лето, окна были открыты, и стражи порядка могли не только туда заглядывать, но еще и слышать. Поэтому все, что происходило в доме опального писателя, полиции было известно досконально. Вот что Алексей Максимович писал по поводу города Арзамаса в письме к Пятницкому: «Вот я и в Арзамасе. По улицам ходят свиньи, полицейские и обыватели. Ходят медленно, имея вид существ, лишенных каких-либо намерений. Уличная жизнь очень развита. Обыватели бьют своих жен на тротуарах. Тихо здесь, славно» Лишь один из местных жителей посещал жилище Горького. Это был священник, отец Федор Иванович Владимирский. Через несколько месяцев он сыграет важнейшую роль в судьбе нашего героя. Но об этом позже. Вообще отец Федор был личностью примечательной. Со времен Ивана Грозного арзамасцы пили гнилую воду из прудов. Отец Федор положил свою жизнь, чтобы в городе был построен водопровод. И добился. Благодаря ему жители Арзамаса получили чистейшую воду. Но заслуги отца Владимирского перед Арзамасом этим не ограничились. Его дети были революционерами. Одна из дочерей сидела в царской тюрьме, а сын в 20-х годах стал наркомом просвещения. И благодаря этому обстоятельству, благодаря заступничеству наркома, в городе не было уничтожено ни одной церкви. Арзамас избежал трагической участи многих русских городов, где бесчинствовали невежественные большевики, истребляя прекрасные храмы. В столовой хлебосольного Горького в Арзамасе за столом всегда усаживалось немалое число людей, до 25 человек: семья, домочадцы, приживалы, друзья и гости. Писатель Скиталец, художник Савелий Сорин, отец Владимирский были как бы постоянными едоками. Сюда Алексей Максимович очень звал Чехова. Соблазнял его вкусными обедами, тем, что дом большой и всякими прочими посулами. Очень хотел его здесь видеть. Но Чехов так и не выбрался. Однажды прикатил сам Владимир Иванович Немирович-Данченко. один из основателей Московского Художественного Общедоступного театра. Академическим театр станет в советское время. Незадолго до этого в МХТ с триумфом прошла премьера первой пьесы Горького «Мещане». И Владимир Иванович поспешил в Арзамас, чтобы получить у молодого драматурга его новое произведение. В столовой состоялась читка пьесы «На дне». На этой читке присутствовал и Зиновий, который поразил Немировича-Данченко тем. что наизусть, с ходу, повторял какие-то куски, которые только что все слушали в чтении Горького. Владимир Иванович отметил, что у Зиновия есть способности, ему надобно бы стать актером. "Однажды явился гость из Москвы. Владимир Иванович Немирович-Данченко. Директор Художественного Театра. Плотный. Такого же роста, как я. Единственное, что было сходного. То был человек с другой планеты. Спокойный. Холодноватый. Корректный. Корректность предполагала дистанцию меж ним и остальным человечеством. В каждом движении — основателен. В тоне, в улыбке, во всей повадке — уверенность в собственном всеведении. Впоследствии мне довелось прочесть, что сильно преуспевшие люди, любимцы толпы, ее наставники, страдали этой смешной болезнью — эпически уважали себя. Тут чемпионом был Томас Манн. Пожалуй, и Поль Валери при желании мог бы оспаривать его первенство. Можно припомнить еще немало столь же блистательных олимпийцев. Должен сознаться, что в скором времени и мой Алексей подхватил инфекцию. Однако у него эти приступы были по-своему даже милы. “Чем бы ни тешилось дитя”, — мысленно говорил я себе, видя, как он надувает щеки. И трудно было не ошалеть от почитания, от известности, невиданного, какого-то даже религиозного поклонения, свалившихся на его бедную голову. Я видел, как люди из плоти и мяса вдруг подпадали под власть легенд, которые либо им были навязаны, либо самими сочинены, и после — старались им соответствовать. В их повседневном существовании всегда присутствовала игра, чаще всего небезобидная — актерство в жизни весьма опасно. В. Ульянов изображал то демократа, то гуманиста, защитника малых и неразумных. В духе традиции. Кто только не был “другом народа”? Даже Марат. Яков, мой брат, играл в бессребреника и постепенно врос в этот образ. Подобные мысли мелькали и у самого Зиновия. Но поскольку он был, как говорили в те времена, иудейского вероисповедания, а нынче сказали бы «еврей», ему нельзя было учиться в школе МХТ, невозможно было обустроиться в Москве. Тогда у кого-то из сидящих за столом возникла мысль: хорошо бы его крестить. Идею присутствующие одобрили, но вскоре об этом забыли. Все, кроме Зиновия. В июле 1902 года царское правительство прекратило дело Горького. Он стал свободен. Уже в августе съездил в Москву, на репетиции пьесы «На дне», и вообще улаживал свои театральные и литературные дела. В начале сентября Алексей Максимович вернулся в Нижний Новгород и снял там квартиру. А Зиновий еще оставался в Арзамасе. Он разбирал книги в библиотеке, но, думаю, оставался здесь не только для этого. В конце сентября, когда Зиновий был окрещен. Горького в Арзамасе не было. Крещение в Троицкой церкви осуществил отец Федор Иванович Владимирский. Он был особым попом — либеральным. Думаю, поскольку он был свидетелем того, как родилась идея о переходе Зиновия Свердлова в православие, уговаривать его особенно не пришлось. Тем более, он испытывал симпатию к одаренному юноше. Сохранился по-трясающий документ: метрическая книга Троицкой церкви г. Арзамаса, ветхая и дрях-лая. А вот и запись: «30 сентября 1902 года было совершено таинство крещения в Троицкой церкви иудея Иешуа Залмана Мовшевича Свердлова. К почину православной церкви через таинство святого крещения и миропомазания приведен полоцкий мещанин иудейского происхождения, Иешуа Залман Мовшев Свердлов, 19 лет от рождения, с присвоением, согласно желанию, отчества и фамилии восприемника, Алексей Пешков». Горький и не догадывался, что у него объявился девятнадцатилетний сыночек. Отчество «Алексеевич» и фамилию «Пешков» умница Зиновий взял самовольно и, прямо скажем, не промахнулся. Действительно, в самодержавной России быть не евреем, а русским было, мягко говоря, предпочтительнее. Еще лучше было стать сыном знаменитого писателя, а не провинциального гравера. Тем не менее, очевидно, что Горький отнесся к поступку Зиновия терпимо. А после и совсем свыкся и письма ему адресовал как Пешкову Зиновию Алексеевичу. Вот, в частности, цитата из письма Алексея Максимовича в Арзамас вскоре после возвращения из ссылки «Если Зиновий еще в Арзамасе, просите его подождать бумаг из консистории. Они, несомненно, скоро придут...» На основании письма из консистории Зиновий мог получить официальные документы о своей новой вере и перемене фамилии. Он получил эти документы и появился в Нижнем в конце ноября. Однако дело этим не кончилось. В той же самой метрической книге Троицкого собора я обнаружил еще одну поразительную запись: «Указ Его императорского величества самодержца Всероссийского, из Нижегородской духовной консистории причта города Арзамаса Троицкой церкви. По указу Его императорского величества Нижегородская духовная консистория сим предписывает вам сделать исправление записи в метрической книге за 902 год под номером 7 о крещении еврея, Иешуа Золомона Мов-шева Свердлова, уничтожить в ней присвоенную ему фамилию Пешкова и оставить за ним родовую фамилию Свердлов. Октября 18-го дня. 903 года». Я не поверил своим глазам. Указ подписан через год после того, как отец Федор крестил юношу. Изумляет факт: неужели всесильному русскому царю, самодержцу и прочая, прочая было дело до крещения еврейского паренька где-то в маленьком провинциальном городке? Невероятно. Я знал, что наши власти всегда относились очень внимательно как к национальным вопросам, так и к идеологическим. И ничего не пропускали мимо, даже такие, казалось бы, мелочи. Но в данном случае поражал высокий уровень вмешательства. Поразмыслив, я выстроил свою гипотезу. За всем этим, конечно, видны уши охранки, Зиновий был поднадзорным, как и его брат Яков, был замечен в политической, неблагонадежной деятельности. И дело это было организовано, несомненно, с подачи полиции. Скорее всего, царь подписал этот указ в числе многих, не вникая в суть, не читая. Однако, акт крещения был отменен монаршей волей. Но наш герой к этому времени был далеко и от Арзамаса, и от Нижнего Новгорода и вообще в скором времени намеревался покинуть Россию и это его уже не волновало. Неизвестно, ведал ли он. что на самом деле он совсем не Пешков, а попросту самозванец. Если и ведал, то скрывал от всех. В общем, вся его дальнейшая жизнь протекала по фальшивым документам. С этим напутствием он и отбыл, а я остался. В полной растерянности. Легко сказать — переехать в Москву. Людям с таким племенным клеймом в древней столице нечего делать. Их место — в отведенной конюшне. Горький задумался и сказал: выхода нет — надо креститься. Да, надо. Что ж делать? Надо так надо. Тем более, в юношеские дни я слабо чувствовал связь с иудейством, дрожи национального пафоса не было во мне и в помине. Когда мой отец меня спросил: трудно ль дается прощание с верой, мне было непросто ему сказать, что, в сущности, нет самого прощания. Разве же я когда-нибудь верил? Разве я стал христианином после того, как был окроплен? Мое еврейство во мне осталось не в тайной связи с угрюмым Богом, оно продлилось в неуто-ленности, в моей одержимости, в моей страсти, которая приводит в движение несбыточные детские сны. Вам нужно, чтоб я крестился? Извольте. Не буду ни первым, ни последним, кто перейдет этот Рубикон. Гейне назвал свое крещение входным билетом, чтобы вступить в храм европейской культуры — неплохо! Немного звонко, но очень метко. Нет, не проникнуть, не проскочить по недосмотру контролеров — вступить, не таясь, войти по праву. Ну что же, он занял в ней свое место. Ему не смогла в этом помешать даже семитская ирония. Теперь и мне предстоит совершить похожий подвиг в русской культуре. История приходит на помощь, подсказывает мне имена, вполне вдохновительные примеры. Право же, есть на что опереться! Шафиров крестился и прогремел на все восемнадцатое столетие — Россия может быть благодарна такому сподвижнику Петра. Странное дело! Не мать, не сестры, а только отец и Яков, мой брат-погодок, болезненно приняли мое решение. Впервые я так ощутил, сколь сильна, сколь выстрадана их неприязнь. Отца можно было понять – он с молоком матери впитал иудейскую веру. Но брат… Он начал с того, что он атеист и должен, каза-лось бы, отнестись к этому шагу вполне равнодушно. Но вот — не может. Никак не может. Шаг этот для него означает, что я веду игру по их правилам. Теперь ему окончательно ясно, что все их условия мною приняты, что я избрал накатанный путь, жить буду применительно к подлости сложившейся враждебной среды. Потом осведомился с усмешкой: коль скоро я собрался в Москву учиться кривляться на подмостках, как я себе представляю в дальнейшем свою революционную деятельность? Я мог ответить ему по сути. Сказать, что я уже четко по-нял, что нелегальщина — не по мне. Она органически мне чужда, и я уже ощутил своей кожей: в душном и затхлом мире подполья не столько расцветают достоинства, сколько оттачиваются пороки — темная жизнь ущербной души, которая требует сатисфакции у целого мира, взывает к мести за неудачу и поражение. Я это понял и содрогнулся. Мог бы сказать еще и о том, что изумили меня пропорции, которые я обнаружил в движении. На одного идеалиста приходится несколько дикарей, готовых на самосуд, на убийство, на самую явную уголовщину. А на одну незабвенную Лидочку с ее мечтой о всеобщем счастье — несколько пламенных истеричек. Мог бы сказать, что мозги мне прочистила еще и тюрьма, где сидел я дважды. Там мне внезапно явилась мысль: если когда-нибудь возобладают знакомые мне свободолюбцы и уж тем более братец Яков с его опустошительной злобой, не те возведут они казематы. И был ли я в самом деле братом — не только Якову — всем этим людям, был ли я в их кругу своим? Случалось ловить и косые взгляды своих товарищей -пролетариев, случалось ощутить холодок, который меня болезненно ранил. Многое мог я ему сказать. Но я уже знал: все споры бессмысленны, любые аргументы бессильны. И я ограничился краткой репликой: самоутверждаться — не жить. Естественная, не сочиненная жизнь возможна только в прямом согласии с твоей натурой, с твоей природой. Видимо, я рожден на свет не для того, чтоб послушно следовать распоряжениям вожаков и фанатических Тео-ретиков. Моя несознательная личность требует от меня свободы в моих влечениях и поступках. Поэтому я еду в Москву. На том и расстались. Потом я узнал, что вскоре, при каком-то допросе, он утаил, что я его брат. Ибо — не считал меня братом. Раз навсегда отрубил, отрекся. Итак, становлюсь христианином. Я понимал, что мне придется труднее, чем другим неофитам. Полиции я хорошо известен мои вызывающие выходки, моя мальчишеская бравада могут мне дорого отозваться. Того же мнения был и Горький. И объявил, что с этого дня законно он меня усыновляет. Я буду не просто приемным сыном, я буду носить его фамилию. Удача еще раз мне улыбнулась. Последний день сентября оказался последним днем моего иудейства. Святое таинство совершилось. Ешуа Заломона Свердлова не стало — явился Зиновий Пешков. Произошло и другое... Его отец Моисей Израилевич, узнав обо всем, был невероятно оскорблен. Ведь старший сын отрекся от веры предков, от имени и фамилии отца, от семьи. Между родителем и Зиновием произошел разрыв, и Свердлов проклял сына. По еврейским преданиям, проклятие сына отцом — это не только слова. Проклятый лишается правой руки. И действительно, через тринадцать лет Зиновий лишился правой руки. Потерпите, расскажу и об этом. Кстати, к вопросу о законности документов, а заодно и о потерянной правой руке. Вот письмо Максима Горького, отцу Федору Владимирскому, писанное в 1915 году; «Дорогой и уважаемый отец Федор. Позвольте обеспокоить вас моей просьбой. Суть ее будет ясна вам из предложенного Прошения Зиновия, вашего крестника. Ему, бедняге, отрезали руку правую по плечо, дали высшие воинские награды и пенсию около 1000 франков в год. Будьте добры, устройте необходимые для него документы. Документы можно послать прямо в Италию или на мое имя в Петроград Кронверкский проспект, 23. Получили ли вы мое письмо в ответ на присланную вами брошюру о водопроводе? Всего вам хорошего, будьте здоровы, всей душой желаю вам. Ваш А. Пешков». (Кстати, отношения между Горьким и отцом Федором Владимирским поддерживались до 1932 года, до смерти отца Федора.) Понимаете, как интересно? Значит, Зиновию в 1915 году во Франции понадобились документы, и я думаю, благодаря отцу Федору, он их, в итоге, получил. Но обо всем этом мы можем только догадываться... |


